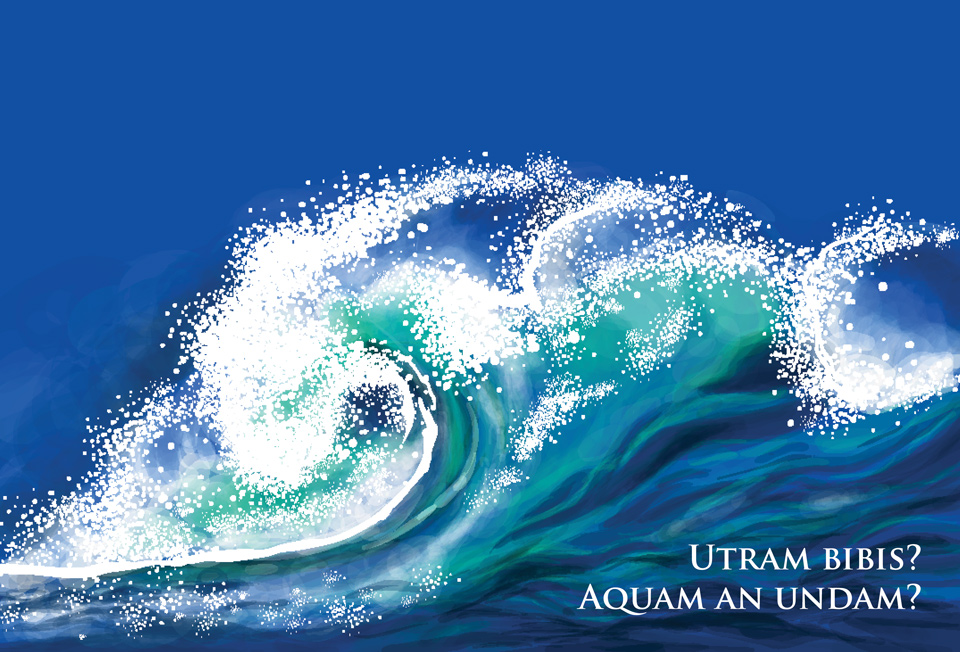Судьба острова удивительна. Эта земля стала родиной многих древнегреческих божеств и местом действия мифов, что легли в основу нашей культуры. Здесь жили Платон, Архимед и Пифагор. Остров успел побывать и экономическим центром Средиземноморья, и сытой провинцией, и захудалым медвежьим углом. Подобно морским волнам на эти берега накатывали, сменяя друг друга волны греческой, римской, норманнской, арабской, французской, испанской и, наконец, итальянской культуры. И вместе с тем эта земля всегда обладала рядом уникальных черт, присущих только ей.
Судьба острова удивительна. Эта земля стала родиной многих древнегреческих божеств и местом действия мифов, что легли в основу нашей культуры. Здесь жили Платон, Архимед и Пифагор. Остров успел побывать и экономическим центром Средиземноморья, и сытой провинцией, и захудалым медвежьим углом. Подобно морским волнам на эти берега накатывали, сменяя друг друга волны греческой, римской, норманнской, арабской, французской, испанской и, наконец, итальянской культуры. И вместе с тем эта земля всегда обладала рядом уникальных черт, присущих только ей.
Первобытные следы присутствия человека здесь уходят в глубокую древность (около 10 000 г. до н.э.). Во времена античности остров населяли и финикийцы, но самое большое наследие оставили греки, основавшие в VII-V вв. до н.э. множество колоний. И сегодня история Сицилии – это изначально история Греции.
К III в. до н.э. Сицилия, зажатая между двумя крупнейшими на то время державами Средиземноморья – Римской республикой и Карфагеном – стала предметом их соперничества. В итоге, в 241 г. до н.э. Сицилия стала первой римской провинцией. В этом статусе она и проведёт многие последующие столетия. И хотя тогда это были хоть и задворки Pax-Romana, будем честными, но времена те для Сицилии оказались неплохими. Это была провинция, в которой всё было спокойно, дела потихоньку шли, но в целом никому не было никакого интереса до этих мест. Жизнь текла размеренно и ровно. Римские землевладельцы развивали аграрные ресурсы острова, привозя для работы на своих латифундиях, как это было тогда принято, рабов со всех концов света. Именно это и сформировало главную особенность острова – многонациональность.
Но когда началось падение Западной Римской империи, досталось и Сицилии. По острову прошлись, правда особо не задерживаясь, и остготы, и вандалы. Но потом византийский император Юстиниан почти на 400 лет вернул остров в лоно греческой цивилизации. За это время Сицилия с лёгкостью избавилась от латыни и окончательно перешла на греческий язык.
В IX в. началось постепенное завоевание острова арабами. Причём на этот раз процесс начался не с войны, а с торговли. На тот момент в Сиракузах уже прочно обосновались арабские купцы. А потом как-то почти не заметно уже по всей Сицилии обосновались и арабские войска. И к 902 г. вся Сицилия была уже под их властью. Возможно, это вторжение прошло почти не замеченным потому, что в это время остров продолжал процветать. Арабы в средние века первыми поняли, что залог стабильности на Сицилии – это религиозная терпимость, а стабильность была залогом благополучия. Таким образом местные и христиане, и мусульмане получили немало выгод от включения острова в арабскую торговую систему на средиземном море. Именно в то время на Сицилию были завезены из северной Африки и Ближнего Востока разные растения, которые замечательно прижились на этой почве и начали приносить доход, например, апельсины. Сицилийский эмират на острове просуществовал до XI в.
Но в XI в. к югу Италии стали стягиваться самые разные силы, обуреваемые единственным желанием – завоёвывать. Среди них были лангобарды, норманны, те же самые арабы и византийцы. Но подчинить тогда себе остров удалось норманнам. И это совершенно удивительная история.
На рубеже 1-го и 2-го тысячелетий многие христиане Европы всерьёз ждали конца света. Когда же Апокалипсис не случился, многие благородные, но не богатые рыцари массово устремились в паломничество по Святым местам. Особенно активными паломниками стали норманны. Недавние викинги, получившие от французского короля северное побережье Франции, они совсем недавно были обращены в новую веру, а потому их религиозный порыв был особенно силён.
В Италии одним из главных мест паломничества была гора Гаргана на юге полуострова. По легенде в конце V в. в пещере на этой горе местным жителям явился Архангел Михаил. И вот, в 1016 г. в этих краях оказались 40 норманнских паломников. Здесь они познакомились с неким Мелусом, местным лангобардом и предводителем повстанцев против владычества Византии. И тут надо вернуться немного назад в историю. В VI в. почти весь Апенинский полуостров захватили лангобарды. На юге их нашествие встретилось со встречной экспансией Византии, пытавшейся в очередной раз восстановить Римскую империю. Но с севера лангобардов сильно потеснили франки. Лангобардское королевство было почти полностью уничтожено. Уцелели лишь небольшие лангобардские королевства и княжества на юге полуострова, которыем были перемешанными с византийскими владениями. Не удивительно, что лангобарды с византийцами воевали постоянно. К тому же это противостояние всё более отчётливо приобретало религиозный характер. До официального разрыва двух церквей оставалось ещё несколько десятилетий, но разница в обрядах уже была.
Существует две версии того, что там произошло у Мелуса с норманнами. Согласно первой версии, он просто призвал их постоять за родную католическую церковь перед лицом этих ужасных греков. А по другой им довелось вместе отражать нападение сарацинских пиратов. При этом норманны проявили себя с самой лучшей стороны и им немедленно поступило предложение стать наёмниками.
Ребята вернулись в Нормандию и быстро собрали тех, кто желал повоевать, а таких было предостаточно. По дороге в Италию войско это продолжало прирастать желающими поучаствовать в завоеваниях и грабежах. По началу всё шло неплохо. Грекам было нанесено несколько унизительных поражений. Но вскоре в Италию из Константинополя прибыло подкрепление и в том числе лучшее воинское подразделение того времени – варяжская гвардия. На равнине при Каннах, где когда-то Ганнибал одержал свою самую знаменитую победу, греки с варягами разгромили лангобардов и норманнов, положив тем самым конец этому союзу.
Из тех же, кто выжил, кто-то продолжил служить лангобардам, кто-то перешёл к византийцам, но основная часть занялись самым очевидным и простым делом: они разбились на небольшие банды и начали грабить местное население.
В 1035 г. в Италию прибыли трое сыновей одного малоизвестного нормандского барона. И по большому счёту, именно благодаря этим троим братьям позже норманны взяли под свой контроль Апулию и Кампанию. Вскоре к ним присоединился ещё один брат, которого звали Роберт. Но его старший брат Вильгельм умер буквально перед его приездом, а другой брат, Дрога, вступивший в права наследования, совершенно не собирался помогать своему младшему брату. Пришлось Роберту обустраиваться самостоятельно. Он недолго послужил наёмником, набрал себе за это время шайку головорезов и переместился в Калабрию. До этого норманны старались избегать этих мест, так как делать здесь было практически нечего, ну разве что грабить малочисленных нищих крестьян. Именно здесь Роберт и получил своё прозвище Гвискар, которое переводится как «хитрец». Жизнь этого человека подробно описана средневековыми хронистами, так что известно много примеров его «хитрости», а вернее сказать жестокости. Между тем Роберт со временем женился и даже вырастил сына, который позже окажется одним из главных героев Первого крестового похода.
Впрочем, как бы жесток в своих поступках не был Роберт Гвискар, то, что творили норманны в Апулии и в Кампании, было ещё страшнее. И в 1053 г. случилось почти немыслимое: уже практически накануне Великой схизмы, т.е. раскола между церквями, был заключён союз между Папой Римским и Византией с единственной целью – выбить норманнов из Италии. Прямо во время церковной службы греки убили Дрога и ещё нескольких норманнских вождей. 17 июня 1053 г. на берегу реки Форторе при Чивитате начались переговоры между Папой Римским, пришедшим сюда со своим войском и норманнами. Поддавшись на провокацию, норманны внезапно атаковали численно превосходящее войско папы Римского, в то время как византийское войско было ещё лишь на подходе. Результат был впечатляющ. Папа оказался пленён, а потом на протяжении 9 месяцев с ним вели переговоры. В результате понтифик признал владениями норманнов и Апулию, и Кампанию, и Калабрию.
Кстати, Роберт Гвискар был одним из участников той битвы. Спустя некоторое время умер его брат Онфруа, граф апулийский. Перед смертью он назначил брата опекуном своих малолетних наследников. Понятно, что интересы племянников не имели особого значения для Роберта и очень скоро он стал полноправным графом Апулии. Для придания веса новому титулу он развёлся с первой женой, а новой избранницей стала представительница местного знатного лангобардского рода. Таким образом получилось объединить лангобардскую и норманнскую династии. Но справедливости ради надо заметить, что новая жена принимала участие во всех походах Роберта, причём непосредственно участвовала в сражениях. И даже есть история про то, как она однажды переломила ход сражения. Когда один из флангов Гвискара во время битвы просел перед атакой противника, она вдруг явилась перед ними во всём своём гневе и наорала на солдат так, что они предпочли продолжить участие в сражении.
Вскоре из Нормандии прибыл ещё один брат, Рожер Отвиль. Ему было предложено пограбить Калабрию, и Рожер взялся за дело с таким усердием, что скоро в тех местах начался ужасающий голод.
А тем временем в Риме новый Папа Римский Николай I для обеспечения себе бо’льшей легитимности нанял для охраны отряд норманнов. В качестве оплаты этих услуг Папа утвердил за норманнами право на Сицилию, которая, впрочем, никогда Святому престолу не принадлежала. Но не в первый и не в последний раз понтифик дарил земли, к которым не имел никакого отношения. А Сицилия традиционно за счёт своего расположения очень интересовала буквально все великие державы Средиземноморья.
И тут стоит вспомнить, что к этому времени Сицилией вот уже 200 лет как владели арабы. При этом значительная часть населения оставалась христианами (вспомним, что в те времена арабы были веротерпимыми). У арабов был отличный флот, что делало невозможной высадку норманнов нигде, кроме самого узкого места, где Сицилия практически соприкасается с Италией. Но именно там стояла хорошо укрепленная Мессина. В 1059 г. Роберт попробовал с небольшим отрядом высадиться именно в этом месте, но еле-еле унес оттуда ноги. Но в 1061 г. в Италию прибыл один из трёх эмиров, правящих тогда Сицилией и постоянно враждующих между собой. Он предложил норманнам помощь в завоевании Сицилии, понятное дело, преследуя свои интересы. Гвискар тут же воспользовался этим шансом и начал завоевание острова. Война продлилась 31 год. И хотя численность войска была для норманнов серьёзной проблемой, – основные боевые действия они вели парой сотен рыцарей и парой тысяч пехотинцев – они разбивали арабов практически во всех сражениях. Но вот на удержание территорий и на управление сил у них катастрофически не хватало. Оставалось прибегнуть к хитрости. Папа Николай II вручил норманнам белое знамя как символ освобождения христиан от сарацинского гнёта. По идее это должно было привлечь христиан, но идея не сработала. Во-первых, местные жители быстро поняли, что единоверцы угнетают их похлеще сарацин. А вскоре вообще начались христианско-мусульманские восстания против власти норманнов. Во-вторых, из Африки на помощь своим прибыли новые мусульманские силы. А в-третьих, Роберт и Рожер никак не могли между собой договориться о разделе власти. Был даже эпизод, когда Рожер взял брата в плен. Но выход нашёлся благодаря проблемам в Апулии. Параллельно войне на Сицилии здесь шла осада Бари, последней византийской крепости на Апенинском полуострове. И только когда Роберт Гвискар построил собственный флот и перекрыл барийцам подвоз припасов, город после 3-х летней осады был вынужден сдаться. А потом флот аналогичным образом перекрыл подходы с моря к Палермо, что также позволило взять этот самый крупный город на Сицилии. И тем не менее Роберту с Рожером пришлось договориться о разделе. Роберт взял на себя материковую часть, а Рожер Сицилию.
Уладив более-менее дела на Апенинах, Гвискар обратил своё внимание на Византию и внезапно сам решил стать её императором. Он выдал свою дочь за свергнутого византийского императора Михаила VII, который на тот момент продолжал жить в Константинополе. А дальше отправился спасать свою девочку из ужасного плена. Его наступление развивалось вполне успешно. Он разгромил византийский флот и высадился на Балканах. Затем дважды буквально разгромил византийскую армию. И все уже приготовились к тому, что он вот-вот возьмёт Константинополь, как вдруг Роберт умер от тифа. Эпитафия на его надгробии в Венозе начинается со слов: «Здесь лежит Роберт Гвискар – ужас мира.»
Последователи воинственного Роберта Гвискара Роджер I (великий граф Сицилии с 1072 по 1101 гг.) и Рожер II (первый король Сицилии) проводили на острове политику веротерпимости. И тем не менее началась эмиграция арабского населения. Греческое православное духовенство было крайне недовольно тем, что на остров хлынули католические миссии. Рыцари с материка зачастую вели себя отнюдь не как рыцари, а главное, что эти ребята были не способны к государственному управлению, так что пришлось возвращать арабов на разные государственные должности. Надо признать, что Рожер II подошёл к решению вопроса талантливо: православное духовенство получило гарантии неприкосновенности и ресурсы на строительство храмов и монастырей. В отношение ислама действия были зеркальными, кроме того, мусульманское законодательство, например, использовалось при судопроизводстве, а арабский стал одним из официальных государственных языков, наравне с греческим, латынью и норманнским. Особенно много мусульман было в финансовой сфере, а сарацины составляли личную гвардию норманнских правителей и ядро сицилийской армии, в то время как греки чаще шли во флот. Но весь этот праздник толерантности происходил в условиях жёсткой централизации. В плане государственной традиции Сицилийское королевство наследовало скорее Византийской империи. Сочетание всех этих элементов привело Сицилию к успеху. Экономика росла бурными темпами, а Мессинский пролив стал важным торговым узлом, в связи с чем сицилийские города Мессина и Сиракузы снова наполнились купцами. Сицилия стала центральным островом Средиземного моря.
В начале XII в. Рожер II воспользовался кризисом в Риме и выступил на стороне одного из двух конкурирующих пап, что принесло ему очень неплохие дивиденды. Он стал королём Сицилии, Апулии и Калабрии. В это время начался золотой век истории Сицилийского королевства, на тот момент третьего по величине государства Европы. Стоит также отметить, что к XII в. на Сицилии всё ещё не было феодализма со всей его жуткой раздробленностью, и децентрализацией, который правил бал во всей остальной Западной Европе. Отсутствие сильных феодалов играло на руку государству. В это относительно спокойное время на Сицилии сформировался свой совершенно особенный архитектурный стиль, который соединил в себе все локальные культурные традиции. А для тех, кто хотел ознакомиться с достижениями греческой и арабской культур, Сицилия стала самой подходящей туристической целью. И никто в Западной Европе не поддерживал такого тесного контакта с Византией, как Сицилия.
Рожер II умер в 1154 г. Византия тут же озаботилась старым добрым вопросом: а не вернуть ли в лоно империи юг Италии? В своей военной экспансии она решила опереться на вечно мятежных южно-итальянских баронов, которые хотя и были вынуждены подчиняться властям из Палермо, но не торопились это делать. Началась очередная вооружённая борьба всех против всех. Но наследник Рожера II Вильгельм I Злой (король Сицилии с 1154 по 1166 гг.) оказался отличным полководцем. В результате Папа Римский был вынужден признать власть Вильгельма не только над Сицилией, Апулией и Калабрией, но и над северным Абруццо, откуда до Рима было всего около 100 км. Доходило до того, что отдельные северо-итальянские феодалы видели в Вильгельме своего заступника перед лицом Великой Римской империи. Для многих европейцев Вильгельм встал в один ряд с такими ребятами как, например, Фридрих Барбаросса, особенно после того, как сицилийский флот помог спасти Триполи и Тир от нападок самого Саллах ад-Дина.
Однако, будучи хорошим полководцем, Вильгельм I оказался не таким уж сильным государственным деятелем. Он допустил дворцовый переворот, жертвой которого стал его наследник. В качестве мести по приказу Вильгельма были убиты тысячи местных жителей, что, естественно привело к мятежу, охватившему весь остров. А в результате была уничтожена вся межконфессиональная гармония, именно то, что столько веков делало Сицилию сильной и процветающей.
Вильгельму II Доброму (король Сицилии с 1166 по 1189 гг.) удалось немного стабилизировать ситуацию. но после того, как он умер, не оставив наследника, Сицилия столкнулась ещё и с династическим кризисом. В итоге власть перешла к зятю Рожера II Генриху VI Гогенштауфену (императору Священной Римской империи). Он, кстати, сильно этому удивился, потому что в своё время брак дочери Рожера II с Генрихом был сугубо тактическим, и никто вообще не ожидал, что династический кризис заведёт Сицилию в руки немецким императорам.
Вспомним, что Священная Римская империя была традиционным соперником Сицилийского королевства. Но не смотря на некоторое возмущение сицилийских феодалов, Генрих VI, заявив свои права на королевство, дошёл до Палермо практически не встретив сопротивления. Но Сицилия была ему чужая, поэтому он просто начал её грабить, а любые бунты жестоко подавлялись. Награбленное добро переправлялось в Германию. В одном из обозов оказалось и парадное одеяние Рожера II, которое сегодня находится в одном из венских музеев. В 1197 г. Генрих VI скоропостижно скончался от лихорадки в возрасте 31 года.
После небольшой династической неразберихи ему наследовал его сын, знаменитый Фридрих II Великий (король Сицилии с 1197 по 1212 гг., император Священной Римской империи). Это был один из самых ярких правителей средневековья, внук Фридриха Барбароссы, император, поэт, основатель Неаполитанского университета, один из самых образованных людей своей эпохи и прочее, и прочее. В отличие от отца, Фридрих уделял своим итальянским владениям значительно больше внимания, чем владениям в Германии. Но в целом на Сицилии царил хаос. Остров был практически не управляем, особенно во время отлучек короля в Германию. Чтобы усилить централизацию власти Фридрих ввел ряд законов, направленных на ослабление баронов. Так он запретил баронам жениться, а следовательно, и передавать землю по наследству. Но этот путь был долог. Поэтому чуть позже он начал просто конфисковывать замки и земли в пользу короны. Он понимал, что удержать хоть в каких-то рамках всю эту разноголосицу культур, языков, религий и интересов можно лишь навязав сверху общую государственную систему. Тем более, что по замыслам Фридриха всё должно было закончиться объединением Сицилии с континентальной Италией и не где-нибудь, а именно в Риме. Но планам этим не дано было осуществиться, а после смерти Фридриха на Сицилии всё вернулось на круги своя.
Папа Иннокентий IV обладал правом наследования Сицилии, но ему в этом отказали. В ответ он отлучил от церкви наследников Фридриха II. Рим начал искать альтернативного кандидата на роль правителя Сицилии, но в итоге он просто предложил кому-нибудь завоевать этот несчастный остров.
Желающие нашлись быстро. В частности, одним из энтузиастов, откликнувшихся на призыв, стал герцог Карл I Анжуйский, брат французского короля (король Сицилии с 1266 по 1282 гг.). И в 1266 г. в битве при Беневенто швабская династия Гогенштауфенов пала. В том же году Карл Анжуйский был коронован в Риме как сицилийский король и в Сицилийском королевстве надолго установилась власть французских чиновников, французской знати, французского языка и Папы Римского, который вдруг обрёл небывалую власть в этом регионе.
Золотой век Сицилии, начавшийся в правление первых нормандских королей, окончательно завершился. Новая власть сместила политический центр на материк. Столицей Сицилийского королевства стал Неаполь. Палермо, а вместе с ним и вся Сицилия перестали играть весомую роль в политике государства. Земли, розданные при Гогенштауфенах были изъяты в пользу французских феодалов, а законы, действовавшие ранее, были отменены. Всё это привело к тому, что бароны, утрачивающие власть, начали мятеж. И на этот раз они нашли поддержку у крестьянства. В результате это вылилось в настоящее национально-освободительное движение сицилийцев против французского владычества. Восстание пришлось на Пасху 1282 г. Сигналом к началу стал колокольный звон, собирающий паству на вечерю, поэтому последовавшие события вошли в историю как «Сицилийская вечерня». За последующие 6 недель было убито около 13000 французов.
И тем не менее победить своими силами Карла Анжуйского не получилось. В начале XIII в. мигранты с Сицилии потянулись во все стороны, и в частности, в Арагон. Это были те самые мятежные, но обескровленные бароны, лишившиеся своего хозяйства крестьяне и прочие недовольные. В Арагоне в это время правил родственник последнего Гогенштауфена Педро III. И там, в кулуарах Барселонского двора созрел план борьбы с Герцогом Анжуйским. Это не должно вызывать удивления, так как французов в те годы ненавидели практически все. В итоге, не смотря на противодействие Рима, Педро III смог одержать победу. Он пообещал вернуть сицилийцам земельные наделы, которые французы забрали у местных баронов. Кроме того, он обещал не объединять Сицилийское королевство с Арагоном. И ещё он обещал всяческую независимость и автономию и прочие, и прочее. Всё это вылилось в то, что Педро III отлучили от церкви.
Конфликты с Анжу продолжались ещё некоторое время. В XIV в. разделение Сицилии на островную и полуостровную стало официальным. Фактически было образовано самостоятельное Неаполитанское королевство с анжуйской династией во главе и Сицилийское, находящееся под Арагоном. Это разделение стало основой для возникшего позже королевства обеих Сицилий. Период власти арагонских королей был довольно скучным временем, но был там один забавный момент. Не смотря на все ранние обещания земельным грабежом вместо французской аристократии по факту стала заниматься аристократия арагонская. В 1409 г. Сицилия вошла в состав Арагонского королевства, а позже и в состав Испании. Тем временем упадок Сицилийского королевства продолжался. На острове в это время проходил процесс, который можно назвать баронизацией Сицилии. Оставшись фактически без центрального правления, сицилийские бароны стали вести себя всё более вызывающе. Так что вскоре вместо лояльных феодалов Испания получила феодалов мятежных. Некоторые города просто перестали подчиняться королевским приказам без разрешения барона. При этом интересы Сицилии этих сицилийских баронов интересовали мало. Бессилие центральной власти, общая бедность и беззаконие привели к формированию своеобразных институтов самоорганизации, ставших поборниками примитивной справедливости.
В XV в. на остров обрушилась лавина берберских пиратов.
Затем, в уже XVII остров пострадал от чумы. А в добавок в 1693 г. произошло чудовищное землетрясение, от которого погибло около 5% населения. По факту в Новое время Сицилия практически перестала быть политическим субъектом. Главной чертой Сицилии в эти годы стала нищета.
После периода, когда Сицилия переходила от одной династии к другой, на рубеже XVIII и XIX вв. Сицилия оказалась в руках Бурбонов. Под их же властью Сицилия встретила наполеоновские войны. Наполеон сослал королевскую чету из Неаполя в Палермо, где они находились вплоть до Венского конгресса. А жители Сицилии благодаря этому впервые воочию увидели своих короля и королеву.
Дальше остров был оккупирован британским экспедиционным корпусом, но для Сицилии это стало большой удачей. При англичанах король Фердинанд I (король Сицилии с 1759 по 1816 гг. и король Обеих Сицилий с 1816 по 1825 гг.) даровал сицилийцам конституцию по Вестминстерскому образцу и выпросил у Лондона прямые субсидии. Для антинаполеоновской коалиции Сицилия была важным опорным пунктом. Но уже в 1816 г., когда угроза миновала, волна положительных изменений сошла на нет, Фердинанд I благополучно объединил остров с материковой частью, назвал это Королевством Обеих Сицилий и уехал жить в Неаполь. Ну а вместе с королевской семьёй с острова уехало и финансовое благополучие.
В 1830-е гг. уже Фердинанд II (король обеих Сицилий с 1830 по 1859 гг.) попытался проводить какие-то реформы, но неаполитанским министрам реформы эти были, мягко говоря, не интересны. Итог был закономерен – на Сицилии начался очередной мятеж. В 1837 г. на острове вспыхнула эпидемия холеры, доселе неизвестной европейцам. И многие стали подозревать правительство в том, что это именно оно виновато в эпидемии. Это послужило катализатором, приведшим к беспорядкам. Самые крупные случились в Сиракузах. Восстание было подавлено, но правительство в Неаполе оказалось в безвыходной ситуации. Попытка проведения земельной реформы, предполагавшей изъятие баронских поместий, привела к ещё большему падению авторитета Бурбонов на острове. А провал реформы только спровоцировал сицилийский сепаратизм. Революции, охватившие в это время многие страны Европы, докатились и до Сицилии. Патриоты изгнали королевские войска из Палермо и Мессины. После того как в Неаполе тоже начались протесты, министры наконец-то решились на введение либеральной конституции, но было уже поздно. В Неаполе никто особо не понимал, как работать с национализмом. И именно в Мессине в это время начали сплачиваться будущие лидеры итальянского Рисорджименто. При этом Фердинанд II пришёл к самому топорному решению данной проблемы. Он устроил бомбардировку Палермо и Мессины и продолжал наносить удары пока эти города не сдались, за что получил прозвище «король-бомба».
После этого сицилийцы резонно задумались о том, что объединение Италии – это вполне реальные и очень любопытные перспективы. В 1860 г., когда Сицилия вновь восстала, Гарибальди, буквально собрав по сусекам вооружение и 1000 добровольцев, отправился на остров. И в течение нескольких месяцев Сицилия была освобождена от Бурбонов. Когда же пал Неаполь, в южных городах Италии был проведён плебисцит и 99% сицилийцев высказались за то, чтобы эти территории стали частью Италии под властью Виктора-Эммануила, короля Пьемонта. Новая объединённая Италия ковалась наспех и новое правительство не придумало ничего лучше, кроме как распространить государственную систему Пьемонта на весь остальной Апенинский полуостров. Так что объединение и освобождение итальянского народа подозрительным образом напоминало аннексию. Причём в Сицилии этот вопрос стоял особенно остро, ведь ожидаемой автономии они так и не получили. Новую пьемонтскую власть здесь невзлюбили примерно также, как до этого не любили Бурбонов.
Гарибальди довольно быстро ушёл с политической арены, а вместо него в жизнь сицилийцев ворвался всеобщий воинский призыв. Кроме того оказалось, что разные регионы Италии за столетия раздробленности ушли слишком далеко друг от друга. Цивилизационный разрыв между урбанизированным севером и аграрным, феодальным, почти средневековым югом оказался просто огромным. Это был другой мир, живущий по своим, сформированным столетиями законам и понятиям, главным из которых была семейственность, – одна из причин знаменитого сицилийского кумовства и коррупции. Отменить же власть сицилийских баронов новым властям не удалось. Заезжая бюрократия стремилась как можно скорее уехать с дикого острова. В итоге Сицилия стала оплотом беззакония в новой Италии и именно этот её статус особо прославит мафия.
В XX в. Сицилия прошла вместе со всей Италией период фашистского правления Муссолини, затем высадку союзных войск и восстановление в послевоенный период. Но и сегодня это, в первую очередь, аграрный край, живущий своей особой и для многих удивительной жизнью.
https://www.youtube.com/watch?v=lV_2Av1WYx0&t=1738s